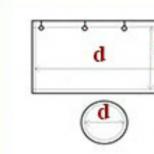Стихотворения читать онлайн, полонский яков петрович. Анализ стихотворения «Блажен озлобленный поэт» Полонского Полонский блажен озлобленный поэт
Автор Полонский Яков Петрович
Полонский Яков
Полонский Яков
Стихотворения
Полонский Яков Петрович
Стихотворения
Яков Петрович Полонский (1819 - 1898) - замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский - младший современник Жуковского и старший современник Блока.
В книгу вощли избранные стихотворения поэта.
Солнце и Месяц
Бэда-проповедник
"Пришли и стали тени ночи..."
Лунный свет
"Уже над ельником из-за вершин колючих..."
В гостиной
Ночь в горах Шотландии
Зимний путь
Рассказ волн
"Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! смотри..."
"Развалину башни, жилище орла..."
Последний разговор
Затворница
Грузинская ночь
После праздника
Старый сазандар
"Не мои ли страсти..."
Качка в бурю
Финский берег
Песня цыганки
Смерть малютки
Колокольчик
У Асгтазии
"Мое сердце - родник, моя песня - волна..."
" - Подойди ко мне, старушка..."
На корабле
Соловьиная любовь
"Тень ангела прошла с величием царицы..."
Холодеющая ночь
На Женевском озере
"Корабль пошел навстречу темной ночи..." .
"По горам две хмурых тучи..."
Сумасшедший
"Я ль первый отойду из мира в вечность - ты ли..."
Безумие горя
"Я читаю книгу песен..."
Белая ночь
Старый орел
Что, если
"Чтобы песня моя разлилась как поток..."
Последний вздох
"Заплетя свои темные косы венцом..."
В альбом К. Ш
"Слышу я, моей соседки..."
Ф. И. Тютчеву
Литературный враг
Напрасно
Влюбленный месяц
На железной дороге
"Заря под тучами взошла и загорелась..."
Зимняя невеста
Полярные льды
"Блажен озлобленный поэт..."
Казимир Великий
Из Бурдильёна
"Мой ум подавлен был тоской..."
Ночная дума
В дурную погоду
Слепой тапер
"В дни, когда над сонным морем..."
Диссонанс
В потерянном раю
В телеге жизни
Памяти Ф. И. Тютчева
Аллегория
Письма к музе, Письмо второе
На закате
Н. А. Грибоедова
Царь-девица
Могила в лесу
А. С. Пушкин
"Любя колосьев мягкий шорох..."
На искусе
Холодная любовь
"С колыбели мы, как дети..."
(Гипотеза)
"Томит предчувствием болезненный покой..."
Н. И. Лорану
Орел и голубка
В хвойном лесу
Зимой, в карете
В день пятидесятилетнего юбилея А. А. Фета
Подросла
"Детство нежное, пугливое..."
"Зной - и всё в томительном покое..."
"Не то мучительно, что вечно-страшной тайной.
В осеннюю темь (Отрывок)
"Полонский здесь не без привета..."
Вечерний звон
Тени и сны
"Вот и ночь
К ее порогу..."
В потемках
Серые годы
Неотвязная
"Если б смерть была мне мать родная..."
"И любя и злясь от колыбели..." .
"Еще не все мне довелось увидеть..."
Мечтатель поэмы>
Примечания
СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ
Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил.
"Отчего так светит Месяц?"
Робко он меня спросил.
В день-деньской устало Солнце,
И сказал ему господь:
"Ляг, засни, и за тобою
Все задремлет, все заснет".
И взмолилось Солнце брату:
"Брат мой, Месяц золотой,
Ты зажги фонарь - и ночью
Обойди ты край земной.
Кто там молится, кто плачет,
Кто мешает людям спать,
Все разведай - и поутру
Приходи и дай мне знать".
Солнце спит, а Месяц ходит,
Сторожит земли покой.
Завтра ж рано-рано к брату
Постучится брат меньшой.
Стук-стук-стук! - отворят двери.
"Солнце, встань - грачи летят,
Петухи давно пропели
И к заутрене звонят".
Солнце встанет, Солнце спросит:
"Что, голубчик, братец мой,
Как тебя господь-бог носит?
Что ты бледен? что с тобой?"
И начнет рассказ свой Месяц,
Кто и как себя ведет.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.
Если ж нет - взойдет в тумане,
Ветер дунет, дождь пойдет,
В сад гулять не выйдет няня:
И дитя не поведет.
БЭДА-ПРОПОВЕДНИК
Был вечер; в одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропою шел Бэда слепой;
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами,
И было все глухо и дико кругом,
Одни только сосны росли вековые,
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным одетые мхом.
Но мальчик устал; ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть:
"Старик! - он сказал, - я пойду отдохнуть;
А ты, если хочешь, начни проповедать:
С вершин увидали тебя пастухи...
Какие-то старцы стоят на дороге...
Вон жены с детьми! говори им о боге,
О сыне, распятом за наши грехи".
И старца лицо просияло мгновенно;
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно
Без веры таких не бывает речей!..
Казалось - слепцу в славе небо являлось;
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.
Но вот уж сгорела заря золотая
И месяца бледный луч в горы проник,
В ущелье повеяла сырость ночная,
И вот, проповедуя, слышит старик
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
"Довольно!.. пойдем!.. Никого уже нет!"
Замолк грустно старец, главой поникая.
Но только замолк он - от края до края:
"Аминь!" - ему грянули камни в ответ.
Глухая степь - дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман - мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.
Как кони ни бегут - мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж
Все степь да степь, за нивой снова нива.
Зачем, ямщик, ты песни не поешь?
И мне в ответ ямщик мой бородатый:
Про черный день мы песню бережем.
Чему ж ты рад? - Недалеко до хаты
Знакомый шест мелькает за бугром.
И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. - Знакомая лачужка,
Жива ль она, здорова ли с тех пор?
Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал - покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.
Ну-ну, живей! Долга моя дорога
Сырая ночь - ни хаты, ни огня
Ямщик поет - в душе опять тревога
Про черный день нет песни у меня.
Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
И змейкой бьется мне в лицо
Ее волос, моей небрежной
Рукой измятое, кольцо.
Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!
Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О солнце, солнце! Погоди!
Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры,
Сквозит лучезарное море;
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный,
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась,
В прозрачном тумане мелькнула
И скрылась крикливая чайка.
Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок. Как перлы,
Росы освежительной капли
Повисли на листьях каштана,
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.
ЛУННЫЙ СВЕТ
На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу - ночь идет, и - слышу
Перекличку петухов.
Далеко мелькают звезды,
Облака озарены,
И дрожа тихонько льется
Свет волшебный от луны.
Жизни лучшие мгновенья
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно,
Все, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.
Отчего ж былого счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотрадна, как печаль,
Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка?
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!
Уже над ельником из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал веслом густую сеть плавучих
Болотных трав и водяных цветов.
То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж топких берегов извилистой реки.
От праздной клеветы и злобы черни светской
В тот вечер, наконец, мы были далеко
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко.
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светло-русых кос.
Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я в глубину глядел, где тысяча корней
Болотных трав невидимо сплеталась,
Подобно тысяче живых зеленых змей.
И мир иной мелькал передо мною
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила;
И жизнь казалась мне суровой глубиною
С поверхностью, которая светла.
Меня тяжелый давит свод,
Большая цепь на мне гремит.
Меня то ветром опахнет,
То все вокруг меня горит!
И, головой припав к стене,
Я слышу, как больной во сне,
Когда он спит, раскрыв глаза,
Что по земле идет гроза.
Налетный ветер за окном,
Листы крапивы шевеля,
Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.
И божьи звезды не хотят
В мою темницу бросить взгляд;
Одна, играя по стене,
Сверкает молния в окне.
И мне отраден этот луч,
Когда стремительным огнем
Он вырывается из туч...
Я так и жду, что божий гром
Мои оковы разобьет,
Все двери настежь распахнет
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей.
И я пойду, пойду опять,
Пойду бродить в густых лесах,
Степной дорогою блуждать,
Толкаться в шумных городах...
Пойду, среди живых людей,
Вновь полный жизни и страстей,
Забыть позор моих цепей.
В ГОСТИНОЙ
В гостиной сидел за раскрытым столом мой отец,
Нахмуривши брови, сурово хранил он молчанье;
Старуха, надев как-то набок нескладный чепец,
Гадала на картах; он слушал ее бормотанье.
Две гордые тетки на пышном диване сидели,
Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне глядели.
А в темном углу, опустя голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела блондинка.
На бледных ланитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась косынка.
НОЧЬ В ГОРАХ ШОТЛАНДИИ
Спишь ли ты, брат мой?
Уж ночь остыла;
В холодный,
Серебряный блеск
Потонули вершины
Громадных
Синеющих гор.
И тихо, и ясно,
И слышно, как с гулом
Катится в бездну
Оторванный камень.
И видно, как ходит
Под облаками
На отдаленном
Голом утесе
Дикий козленок.
Спишь ли ты, брат мой?
Гуще и гуще
Становится цвет полуночного неба,
Ярче и ярче
Горят планеты.
Сверкает во мраке
Меч Ориона.
Встань, брат!
Невидимой лютни
Воздушное пенье
Принес и унес свежий ветер.
Встань, брат!
Ответный,
Пронзительно-резкий
Звук медного рога
Трижды в горах раздавался,
Орлы просыпались на гнездах.
За окном в тени мелькает
Русая головка.
Ты не спишь, мое мученье!
Ты не спишь, плутовка!
Выходи ж ко мне навстречу!
С жаждой поцелуя,
К сердцу сердце молодое
Пламенно прижму я.
Ты не бойся, если звезды
Слишком ярко светят:
Я плащом тебя одену
Так, что не заметят!
Если сторож нас окликнет
Назовись солдатом;
Если спросят, с кем была ты,
Отвечай, что с братом!
Под надзором богомолки
Ведь тюрьма наскучит;
А неволя поневоле
Хитрости научит!
ЗИМНИЙ ПУТЬ
Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей.
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.
За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов.
Мне мерещатся странные сны.
Мне все чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.
И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.
Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды
И не веришь и веришь очам.
А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.
РАССКАЗ ВОЛН
Я у моря, грусти полный,
Ждал родные паруса.
Бурно пенилися волны,
Мрачны были небеса,
И рассказывали волны
Про морские чудеса.
Слушай, слушай: "Под волнами
Там, среди гранитных скал,
Где растет, сплетясь ветвями,
Бледно-розовый коралл;
Там, где груды перламутра
При мерцающей луне,
При лучах пурпурных утра
Тускло светятся на дне,
Там, среди чудес природы,
Током вод принесена,
Отдыхать от непогоды
На песок легла она.
Веют косы, размываясь,
Чуден блеск стеклянных глаз.
Грудь ее, не опускаясь,
Высоко приподнялась.
Нити трав морских густою
Сетью спутались над ней
И нависли бахромою,
Притупляя блеск лучей.
Высоко над ней горами
Ходят волны, и звучит
Но напрасно там, в пространстве,
Слышны всплески, крик и стон
Непробуден в нашем царстве
Вашей девы сладкий сон..."
Так рассказывали волны
Про морские чудеса,
Полонскому было хорошо известно стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт...», написанное в 1852 году:
Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе –
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Яков Петрович в своем стихотворении, написанном в 1872 году, по-иному развивает тему, намеченную «печальником горя народного», и создает обобщенный образ поэта-гражданина:
Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.
Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он - уму,
И от богов не ждет ответа.
Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.
Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.
…………………………..
Невольный крик его - наш крик,
Его пороки - наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен - и велик.
Издатель «Вестника Европы» М.М. Стасюлевич, которому Полонский предложил стихотворение, печатать его отказался, очевидно, из опаски приобрести репутацию редактора, поощряющего поэзию революционного и публицистического звучания. В письме Полонскому Михаил Матвеевич, хорошо знавший характер поэта, откровенно признавался: «Добрейший Яков Петрович, если бы не Вы мне сами отдали эти стихи, то не поверил бы, что они Ваши. Это совсем не похоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы: это ведь личность». В ответном письме от 23 февраля 1872 года Яков Петрович возражал: «Когда я писал стихи мои, я имел в виду вовсе не Некрасова, а Истину, - ту истину, которой не угадал Некрасов, когда писал стихи свои: «Блажен незлобивый поэт»... К нему обращать стихи мои - и только к нему - было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично. Факт тот - что в 19 веке - европейское общество сочувствует не незлобивым, а озлобленным - и стихи мои не что иное, как поэтическая формула, выражающая этот факт. Почему это так? Какая причина, что, чем глубже, смелее и всестороннее отрицание, тем более в нас восторженного сочувствия, и почему положительные идеалы, как бы крупны и блестящи они ни были, восторгом сладостным наш ум не шевелят?
Это решать уже не мое дело - это дело критики (если таковая имеется). Я сам наполовину сочувствую отрицателям, сам не могу освободиться от их влияния и нахожу, что в том есть своя великая, законная причина, обусловливающая наше развитие...
Знаете ли Вы, скажу Вам между прочим, отчего происходят мои скитания по редакциям? Вероятно, Вы думаете, что это происходит по слабости моего характера. Напротив, оттого, что у меня его слишком много. Никак не могу я к чему-нибудь или к кому-нибудь примениться - писать в одном тоне, связать мысль мою. Никому я вполне угодить не в силах, никакая редакция не станет печатать всего того, что мне вздумается написать, - каждая непременно хочет, так сказать, процедить меня. Может ли при этом сохраниться личность или характеристические черты писателя? Едва ли. Уничтожьте дурные стороны лица, сгладьте угловатости, сотрите тени - и лица не будет».
Это письмо Полонского выходит за рамки частного послания поэта издателю. В нем автор размышляет о творческом поведении писателя вообще и о своем характере в частности. Размениваться по мелочам Полонский не мог, раздвоенности личности творца не терпел и предпочитал рассылать свои произведения по разным редакциям, вместо того чтобы править их в угоду тому или иному редактору или издателю. Он понял главное в литературном (впрочем, не только в литературном) творчестве: главное - оставаться самим собой. Все остальное сделает время.
Полонский объяснил свою творческую позицию редактору-издателю «Вестника Европы» достаточно убедительно, однако осторожный Стасюлевич опубликовать стихотворение отказался.
Полагают, что первоначальный вариант стихотворении Полонского, посланный Стасюлевичу, был более острым и тенденциозным. В нем отчетливо звучали антинекрасовские мотивы.
Блажен озлобленный поэт, Будь он хоть нравственный калека, Ему так искренен привет Больных детей больного века! Кто свой художественный труд Считает суетной забавой, Кто сам в людской не верит суд, Но жадно гонится за славой -Кто желчи дорогой запас Хранит как лучший дар страданья, Кто как детей пугает нас Холодным смехом отрицанья...
Брани того, кого браним, И если ты неуязвим, Как Бог - с такими божествами Иметь мы дело не хотим...
Очевидно, переписка со Стасюлевичем заставила Полонского переработать свое стихотворение, сгладив некоторые «острые углы» и смягчив спорные места. Впервые оно увидело свет два года спустя в литературном сборнике «Складчина», вышедшем в Петербурге в 1874 году в пользу пострадавшим от голода в Самарской губернии.
Тургенев, вообще не жаловавший Некрасова, оценил стихотворение Полонского, перекликающегося с некрасовской «музой мести и печали», весьма сдержанно. В письме к автору стихотворения из Парижа от 2 (14) марта 1872 года он сообщал: «По заведенной между нами привычке быть откровенным скажу тебе, что присланное тобою стихотворение «Блажен озлобленный поэт» не совсем мне нравится, хотя и носит печать твоей виртуозности. Оно как-то неловко колеблется между иронией и серьезом -оно либо недовольно зло, либо не довольно восторженно - и производит впечатление в одно и то же время и неясное и напряженное».
Полонский с оттенком некоторой зависти к «поэту-гражданину» писал Тургеневу в 1873 году: «Изо всех двуногих существ, мною встреченных на земле, положительно я никого не знаю счастливее Некрасова. Все ему далось - и слава, и деньги, и любовь, и труд, и свобода». Сам же Полонский, кроме внутренней свободы и любви ничего не имел. А что же слава? Она, как известно, дама капризная - не каждому в руки дается.
«Скажут, что я славолюбив, - писал он в дневнике, - но у меня нет ни сребролюбия, ни сластолюбия - надо же живому человеку хоть какую-нибудь страсть иметь...»
Но, как это ни странно, шлейф дурной «славы», а вернее - откровенных сплетен тянулся за ним по всему Петербургу. Люди, хорошо знавшие добрый характер поэта, его трезвый образ жизни, поверить в эти пересуды не могли, но от злых языков разве можно было куда-то спрятаться? Полонский сам признавался: «Раз зашел я к одному доктору - кажется Красильникову, он меня спрашивает: лежал ли я в такой-то больнице?
Никогда не лежал ни в какой больнице.
Никогда?
Никогда!
Странно - там лежал недолго какой-то Полонский, который называл себя поэтом, буянил, посылал прислугу за водкой и грозился во всех газетах напечатать на больничное начальство донос или пасквиль, если оно будет стеснять произвол его».
Вот еще одно признание Полонского: «Сослуживец мой, член комитета Любовников, раз ехал в дилижансе на Парголово. В дилижансе шла речь о русских поэтах:
Все пьяницы, - сказал один из пассажиров.
А Полонский? - спросил другой.
С утра без просыпу пьян, - утвердительно сказал тот же пассажир». Яков Петрович близко принимал к сердцу подобные пересуды, но его действительная слава, слава глубоко самобытного русского поэта, с годами становилась все прочней и шире.
Где Жижка страшно мстил за поруганье прав,
Мечом тушил костры и, цепи оборвав,
Внушал страдальцам дух отваги?
Или от Запада, где партии шумят,
Где борются с трибун народные витии,
Где от искусства к нам несется аромат,
Где от наук целебно-жгучий яд,
Того гляди, коснется язв России?..
Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет -
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет…
Блажен озлобленный поэт,
Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.
Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он - уму,
И от богов не ждет ответа.
Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.
Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.
Яд в глубине его страстей,
Спасенье - в силе отрицанья,
В любви - зародыши идей,
В идеях - выход из страданья.
Невольный крик его - наш крик,
Его пороки - наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен - и велик.
КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ
(Посв. памяти А. Ф. Гильфердинга)
В расписных санях, ковром покрытых,
Нараспашку, в бурке боевой,
Казимир, круль польский, мчится в Краков
С молодой, веселою женой.
К ночи он домой спешит с охоты;
Позвонки бренчат на хомутах;
Впереди, на всем скаку, не видно,
Кто трубит, вздымая снежный прах;
Позади в санях несется свита…
Ясный месяц выглянул едва…
Из саней торчат собачьи морды,
Свесилась оленья голова…
Казимир на пир спешит с охоты;
В новом замке ждут его давно
Воеводы, шляхта, краковянки,
Музыка, и танцы, и вино.
Но не в духе круль: насупил брови,
На морозе дышит горячо.
Королева с ласкою склонилась
На его могучее плечо.
"Что с тобою, государь мой?! друг мой?
У тебя такой сердитый вид…
Или ты охотой недоволен?
Или мною? - на меня сердит?.."
"Хороши мы! - молвил он с досадой.
Хороши мы! Голодает край.
Хлопы мрут, - а мы и не слыхали,
Что у нас в краю неурожай!..
Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гусляр, что встретили мы там…
Пусть-ка он споет магнатам нашим
То, что спьяна пел он лесникам…"
Мчатся кони, резче раздается
Звук рогов и топот, - и встает
Над заснувшим Краковом зубчатой
Башни тень, с огнями у ворот.
В замке светят фонари и лампы,
Музыка и пир идет горой.
Казимир сидит в полукафтанье,
Подпирает бороду рукой.
Борода вперед выходит клином,
Волосы подстрижены в кружок.
Перед ним с вином стоит на блюде
В золотой оправе турий рог;
Позади - в чешуйчатых кольчугах
Стражников колеблющийся строй;
Над его бровями дума бродит,
Точно тень от тучи грозовой.
Утомилась пляской королева,
Дышит зноем молодая грудь,
Пышут щеки, светится улыбка:
"Государь мой, веселее будь!..
Гусляра вели позвать, покуда
Гости не успели задремать".
И к гостям идет она, и гости
Гусляра, - кричат, - скорей позвать!
Стихли трубы, бубны и цимбалы;
И, венгерским жажду утоля,
Чинно сели под столбами залы
Воеводы, гости короля.
А у ног хозяйки-королевы,
Не на табуретах и скамьях,
На ступеньках трона сели панны,
С розовой усмешкой на устах.
Ждут, - и вот на праздник королевский
Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной.
Из народа вызванный гусляр.
От него надворной веет стужей,
Искры снега тают в волосах,
И как тень лежит румянец сизый
На его обветренных щеках.
Низко перед царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой,
Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
"Начинай!" - и дрогнувшие пальцы
Звонко пробежали по струнам.
Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусляр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар…
Крики "Vivat!" огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слыхал!
"Пой другую!" - и, потупив очи,
Прославлять стал молодой певец
Молодость и чары королевы
И любовь - щедрот ее венец.
Не успел он кончить этой песни
Крики "Vivat!" огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слыхал!
"Каждый шляхтич, - молвил он, - поет их
На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника, - та будет поновей…
Да не бойся!"
Но гусляр, как будто
К пытке присужденный, побледнел…
И, как пленник, дико озираясь,
"Ох, вы хлопы, ой, вы божьи люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит - валит с ног.
Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька.
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
Грудь твоя давно без молока.
Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине!
По весне авось помрешь и ты…
Уж растут, должно быть к урожаю,
На кладбищах новые кресты…
Уж на хлеб, должно быть к урожаю,
Цены, что ни день, растут, растут.
Только паны потирают руки
Выгодно свой хлебец продают".
Не успел он кончить этой песни:
"Правда ли?" - вдруг вскрикнул Казимир
И привстал, и в гневе, весь багровый,
Озирает онемевший пир.
Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
"Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего лица…
Завтра же, в подрыв корысти вашей,
Я мои амбары отопру…
Вы… лжецы! глядите: я, король ваш,
Кланяюсь, за правду, гусляру…"
И, певцу поклон отвесив, вышел
Казимир, - и пир его притих…
"Хлопский круль!" - в сенях бормочут паны…
"Хлопский круль!" - лепечут жены их.
Онемел гусляр, поник, не слышит
Ни угроз, ни ропота кругом…
Гнев Великого велик был, страшен
Полонскому было хорошо известно стихотворение Некрасова «Блажен незлобивый поэт...», написанное в 1852 году:
Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе –
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Яков Петрович в своем стихотворении, написанном в 1872 году, по-иному развивает тему, намеченную «печальником горя народного», и создает обобщенный образ поэта-гражданина:
Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.
Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он - уму,
И от богов не ждет ответа.
Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.
Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастия не просит.
…………………………..
Невольный крик его - наш крик,
Его пороки - наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен - и велик.
Издатель «Вестника Европы» М.М. Стасюлевич, которому Полонский предложил стихотворение, печатать его отказался, очевидно, из опаски приобрести репутацию редактора, поощряющего поэзию революционного и публицистического звучания. В письме Полонскому Михаил Матвеевич, хорошо знавший характер поэта, откровенно признавался: «Добрейший Яков Петрович, если бы не Вы мне сами отдали эти стихи, то не поверил бы, что они Ваши. Это совсем не похоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы: это ведь личность». В ответном письме от 23 февраля 1872 года Яков Петрович возражал: «Когда я писал стихи мои, я имел в виду вовсе не Некрасова, а Истину, - ту истину, которой не угадал Некрасов, когда писал стихи свои: «Блажен незлобивый поэт»... К нему обращать стихи мои - и только к нему - было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично. Факт тот - что в 19 веке - европейское общество сочувствует не незлобивым, а озлобленным - и стихи мои не что иное, как поэтическая формула, выражающая этот факт. Почему это так? Какая причина, что, чем глубже, смелее и всестороннее отрицание, тем более в нас восторженного сочувствия, и почему положительные идеалы, как бы крупны и блестящи они ни были, восторгом сладостным наш ум не шевелят?
Это решать уже не мое дело - это дело критики (если таковая имеется). Я сам наполовину сочувствую отрицателям, сам не могу освободиться от их влияния и нахожу, что в том есть своя великая, законная причина, обусловливающая наше развитие...
Знаете ли Вы, скажу Вам между прочим, отчего происходят мои скитания по редакциям? Вероятно, Вы думаете, что это происходит по слабости моего характера. Напротив, оттого, что у меня его слишком много. Никак не могу я к чему-нибудь или к кому-нибудь примениться - писать в одном тоне, связать мысль мою. Никому я вполне угодить не в силах, никакая редакция не станет печатать всего того, что мне вздумается написать, - каждая непременно хочет, так сказать, процедить меня. Может ли при этом сохраниться личность или характеристические черты писателя? Едва ли. Уничтожьте дурные стороны лица, сгладьте угловатости, сотрите тени - и лица не будет».
Это письмо Полонского выходит за рамки частного послания поэта издателю. В нем автор размышляет о творческом поведении писателя вообще и о своем характере в частности. Размениваться по мелочам Полонский не мог, раздвоенности личности творца не терпел и предпочитал рассылать свои произведения по разным редакциям, вместо того чтобы править их в угоду тому или иному редактору или издателю. Он понял главное в литературном (впрочем, не только в литературном) творчестве: главное - оставаться самим собой. Все остальное сделает время.
Полонский объяснил свою творческую позицию редактору-издателю «Вестника Европы» достаточно убедительно, однако осторожный Стасюлевич опубликовать стихотворение отказался.
Полагают, что первоначальный вариант стихотворении Полонского, посланный Стасюлевичу, был более острым и тенденциозным. В нем отчетливо звучали антинекрасовские мотивы.
Блажен озлобленный поэт, Будь он хоть нравственный калека, Ему так искренен привет Больных детей больного века! Кто свой художественный труд Считает суетной забавой, Кто сам в людской не верит суд, Но жадно гонится за славой -Кто желчи дорогой запас Хранит как лучший дар страданья, Кто как детей пугает нас Холодным смехом отрицанья...
Брани того, кого браним, И если ты неуязвим, Как Бог - с такими божествами Иметь мы дело не хотим...
Очевидно, переписка со Стасюлевичем заставила Полонского переработать свое стихотворение, сгладив некоторые «острые углы» и смягчив спорные места. Впервые оно увидело свет два года спустя в литературном сборнике «Складчина», вышедшем в Петербурге в 1874 году в пользу пострадавшим от голода в Самарской губернии.
Тургенев, вообще не жаловавший Некрасова, оценил стихотворение Полонского, перекликающегося с некрасовской «музой мести и печали», весьма сдержанно. В письме к автору стихотворения из Парижа от 2 (14) марта 1872 года он сообщал: «По заведенной между нами привычке быть откровенным скажу тебе, что присланное тобою стихотворение «Блажен озлобленный поэт» не совсем мне нравится, хотя и носит печать твоей виртуозности. Оно как-то неловко колеблется между иронией и серьезом -оно либо недовольно зло, либо не довольно восторженно - и производит впечатление в одно и то же время и неясное и напряженное».
Полонский с оттенком некоторой зависти к «поэту-гражданину» писал Тургеневу в 1873 году: «Изо всех двуногих существ, мною встреченных на земле, положительно я никого не знаю счастливее Некрасова. Все ему далось - и слава, и деньги, и любовь, и труд, и свобода». Сам же Полонский, кроме внутренней свободы и любви ничего не имел. А что же слава? Она, как известно, дама капризная - не каждому в руки дается.
«Скажут, что я славолюбив, - писал он в дневнике, - но у меня нет ни сребролюбия, ни сластолюбия - надо же живому человеку хоть какую-нибудь страсть иметь...»
Но, как это ни странно, шлейф дурной «славы», а вернее - откровенных сплетен тянулся за ним по всему Петербургу. Люди, хорошо знавшие добрый характер поэта, его трезвый образ жизни, поверить в эти пересуды не могли, но от злых языков разве можно было куда-то спрятаться? Полонский сам признавался: «Раз зашел я к одному доктору - кажется Красильникову, он меня спрашивает: лежал ли я в такой-то больнице?
Никогда не лежал ни в какой больнице.
Странно - там лежал недолго какой-то Полонский, который называл себя поэтом, буянил, посылал прислугу за водкой и грозился во всех газетах напечатать на больничное начальство донос или пасквиль, если оно будет стеснять произвол его».
Вот еще одно признание Полонского: «Сослуживец мой, член комитета Любовников, раз ехал в дилижансе на Парголово. В дилижансе шла речь о русских поэтах:
Все пьяницы, - сказал один из пассажиров.
А Полонский? - спросил другой.
С утра без просыпу пьян, - утвердительно сказал тот же пассажир». Яков Петрович близко принимал к сердцу подобные пересуды, но его действительная слава, слава глубоко самобытного русского поэта, с годами становилась все прочней и шире.
Мало кто из русских поэтов так пострадал от советского литературоведения, как Некрасов. Беда его в том, что он был самый идеологически правильный, самый социально выдержанный, и в глазах нескольких поколений читателей Некрасов-гражданин бесповоротно и безнадежно затмил Некрасова-поэта. И только в последние годы он начинает к нам возвращаться - желчный, яростный, плачущий, умиляющийся, проклинающий - живой и актуальный, как мало кто другой.
В нем словно жили два человека, две личности, два противоположных начала - можно для простоты, наверное, назвать их материнским и отцовским. Отец, поручик егерского полка Алексей Некрасов, чем-то очаровал 17-летнюю провинциальную барышню Елену Закревскую. Она выскочила замуж за проезжего офицера и уехала с ним в Ярославскую губернию. Брак этот не был счастливым. Мать Некрасова была молоденькая, кроткая, любящая книги, по тогдашним меркам образованная; таких уездных барышень мы часто встречаем у Пушкина. Отец - жестокий барин, склонный к вспышкам гнева, крепостник, картежник, любитель псовой охоты, воплощение «барства дикого, без чувства, без закона». Он наводил страх и на крепостных, и на домашних. Рассказывают, что Елена Андреевна заступалась за детей и крепостных, когда муж велел их пороть, - падала в ноги; это не всегда помогало. Крестьяне вспоминали, что он бил жену.
Для Некрасова мать была воплощением всего лучшего, человечного, умного и святого; «во мне спасла живую душу ты», писал он, обращаясь к ней. Она приохотила его к чтению, сочувствовала ему и понимала его. Отец готовил мальчика к военной карьере: брал Николая с собой на охоту, учил стрелять и скакать верхом - и воспитал отличного стрелка и наездника.
Эти два начала так и уживались в нем всю жизнь: он был и барин, картежник, страстный охотник - и читатель, мечтатель, страдающая, нежная душа, влюбленная в красоту мира и уязвленная ее жестокостью.

Семья была небогата: отец проматывал остатки некогда огромного, но еще отцами и дедами разоренного состояния. Мальчики Некрасовы, погодки Андрей и Николай, постоянно играли с деревенскими детьми, как отец ни старался запретить это вредное общение; когда взрослый Некрасов приезжал на родину, в село Грешнево, он разговаривал с мужиками по-свойски: это были его друзья детства. Некрасов, кстати, гордился тем, что он никогда не владел крепостными и не жил за их счет.
В учение братьев Некрасовых отдали, когда одному было 11, а другому 12 лет. Их отправили в Ярославскую гимназию. Поселились они на частной квартире с дядькой, который присматривал за ними весьма нерадиво, так что мальчики часто прогуливали занятия и не особенно усердствовали. Одноклассник Николая Некрасова Горошков вспоминал, что будущий поэт на переменах рассказывал товарищам всякие смешные байки из деревенской жизни и его с восторгом слушали. Учились мальчики все хуже: Андрей много болел, оба много пропускали; в общем, такое учение превосходно описано в «Обломове», да и кончилось оно примерно так же - обоих забрали из пятого класса гимназии, сославшись на болезни. К 1837 году, когда Некрасов оставил гимназию, он уже был неплохо начитан и собрал целую тетрадь стихов.
Несчастненький

Старший брат, Андрей, долго и тяжело болел - и умер через год после ухода из гимназии. Николай уехал в Петербург почти сразу после его похорон. Отец поставил условие: поступить в Дворянский полк. Но мать и сын мечтали об университете.
Летом 1838 года 16-летний Некрасов явился в Петербург. Денег у него было 150 рублей. Отец, узнав, что сын собирается ослушаться, пообещал оставить его без денег, если он не подчинится и не пойдет по военной части. Сын ответил: «Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма». Отец прекратил присылать сыну деньги, и юноша остался без средств к существованию. А впереди была зима, голодная и холодная. Деньги, привезенные из Грешнева, таяли. Он менял квартиры, которые становились все грязнее и беднее, голодал, мерз, проедал оставшиеся деньги, пристраивал стихи в журнал «Сын отечества» (их опубликовали; молодой поэт ликовал). Готовился поступать в университет. На экзаменах летом 1839 года Некрасов жестоко провалился: словесность сдал на тройку, затем получил несколько единиц подряд и не стал сдавать остальные экзамены. Правда, поступил вольнослушателем на философский факультет, потом пробовал поступать на юридический - и опять неудачно, хотя по словесности на этот раз была пятерка.

Три года он скитался по темным углам, писал крестьянам прошения за копейки, переписывал роли, писал афиши и объявления, сочинял лубочные сказки. Зимой ходил в летнем пальто и соломенной шляпе, в дырявом красном шарфе. Когда знакомая спросила его, зачем он надел такой шарф, он резко ответил: «Этот шарф вязала моя мать». В одной семье его звали «несчастненьким» и всякий раз подкармливали остатками от обеда. Он писал потом: «Питаясь чуть не жестию, // Я часто ощущал такую индижестию, // Что умереть желал». Индижестия - несварение желудка.
Потом он простудился, долго лежал больной, а квартирный хозяин, унтер-офицер, сильно беспокоился, как бы жилец не помер, не выплатив долга в 40 рублей, еще и хорони его потом за свой счет. Так что он взял с Некрасова расписку, что тот передает ему имущество в счет уплаты долга, на случай смерти, а когда больной впервые встал с постели и вышел погулять - не пустил его обратно. Имущество, само собой, оставил у себя. Некрасов пошел куда глаза глядят, сел на какую-то скамейку, заснул и чуть не замерз во сне. Его разбудил нищий и привел к себе в ночлежку.

Кончились эти мытарства тем, что содержатель пансиона для поступления в Инженерное училище Бенецкий нанял юношу гувернером. Он же посоветовал молодому поэту издать стихи отдельной книжкой. Некрасов пошел советоваться к Жуковскому, которого совсем не знал. Жуковский сказал ему: не печатайте, потом будете писать лучше - и будет стыдно. А вздумаете печатать - снимите свое имя. Некрасов послушался и издал «Мечты и звуки» под инициалами Н.Н. Стихи были - «так он писал темно и вяло (что романтизмом мы зовем…)». Книгу никто не покупал, и опечаленный автор скупил и уничтожил почти весь тираж. Удивительно, но «Мечты и звуки» как-то попались на глаза Белинскому, который заметил: «Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа, и чувство, но в то же время видите, что они и остались в авторе, а в стихи пере-шли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость - и скука». Некрасов решил больше не писать и не печатать стихов. Он едва не запил от тоски, но хватило ума остановиться. Тоска его терзала всю жизнь, это и дар его был, и проклятие его. Вспоминают, что в тяжелые минуты он целыми днями лежал лицом к стене - он называл это хандрой: «Прибавь - хандрит и еле дышит, // И будет мой портрет готов». Но сейчас, 20-летний, он справился, пришел в себя - и решил заняться журналистикой. Познакомился с издателем Федором Кони, печатался у него в «Пантеоне русского и всех европейских театров», писал рецензии на театральные спектакли - и сам понемногу заболел театром. И начал, по предложению Кони, писать и переводить для театра пьесы - преимущественно водевили. Он даже переводил с французского, практически не зная языка - где по словарю, где догадкой, а где и фантазией восполняя пробелы. Пьесы его, которые он подписывал псевдонимом Н. Перепельский, имели успех у публики.
Некрасов с юности писал много, чтобы прокормиться, и среди написанного им много откровенной ерунды. Если допустить, что в литературе есть свои мученики и небесные покровители, то нам не найти лучшего покровителя для журналистов и литераторов, вынужденных ради заработка строчить без сна и отдыха. Тем более что когда появилась возможность - Некрасов стал самым настоящим покровителем литераторов: давал деньги в долг и просто так, отправлял в теплые края, платил огромные гонорары, опекал, кормил роскошными обедами…
К 1841 году Николай Некрасов превратился из полунищего мальчишки в литератора, сотрудника журнала, автора пьес. Теперь уже не стыдно было явиться домой - не подавленным и ничтожным, а сильным и победившим: «Лет двадцати, с усталой головой, // Ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), // Но горделив, - приехал я домой»… Сестра Елизавета звала на свадьбу.
Но попал он на похороны: мать умерла за три дня до его приезда. Как он пережил ее смерть - неизвестно, ничего об этом не писал. Судя по тому, что и как он писал о матери - это был тяжелый удар.
И поэт истинный
Некрасов часто публиковал рецензии на литературные новинки. Их заметил Белинский и удивился: всякий раз их автор успевает написать то, что сам он еще только собирался написать. Некрасов оказался критиком резким, ехидным и близким Белинскому по воззрениям; разумеется, они свели знакомство, и началось литературное ученичество и многолетняя дружба. Белинский навсегда остался для Некрасова учителем, да еще с большой буквы: «перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени», это мы все еще со школы помним. Белинский, казалось, прекрасно знал Некрасова - как собеседника, как критика, как партнера по картам, наконец. Но первые после неудачи юношеского сборника стихи, которые Некрасов показал старшему другу через несколько лет знакомства, заставили его воскликнуть хрестоматийное: да знаете ли вы, что вы - поэт, и поэт истинный?



Это было знаменитое «В дороге», история крестьянской девочки, которую воспитали в господском доме барышней, а потом отдали в жены мужику. Первое стихотворение - и совсем зрелый поэт: и точность удивительная в передаче народной речи, и мелодия необыкновенная, и совершенно свой, ни на кого не похожий поэтический голос - и горечь, и ядовитая ирония, и бескрайняя тоска… Так в русскую поэзию ворвался народ, дотоле бессловесный. Всего несколько десятилетий назад Карамзин доказывал читающей публике, что крестьянки тоже любить умеют. Некрасовские крестьяне, в отличие от бедной Лизы, не благоухают ландышами. Живые, корявые, некрасивые люди встали во весь рост и заговорили о своей жизни, полной шекспировских страстей, изматывающего труда и безысходной муки. И оказалось, что русская поэзия может быть и такой. До сих пор она говорила сложным и умным языком высокообразованных людей. А Некрасов подчинил поэзии всю буйную, непокорную стихию русского просторечия, народного языка и народной песни.
Оказалось, поэзия справляется не только с высоким и прекрасным, но и с низким, страшным и безобразным. Некрасов - первооткрыватель эстетики безобразного в России:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах…

1864 год, практически одновременно с Бодлером - «Цветы зла» выходили с 1857-го; Некрасов, впрочем, изобретает это сам, а не подсматривает у французов - это время требует, чтобы поэзия бросила цевницу, отложила лиру и посмотрела на реальную жизнь. Так появляется некрасовская «кнутом иссеченная муза» - муза реальной жизни, муза страдания и кипящей ярости. Безобразное для Некрасова не самоцель, а средство впечатлить читателя, изумить, замучить. Некрасов читателя вообще не жалеет. Чего стоит его «толпа мертвецов», вьющихся у поезда, как пушкинские бесы, - картина для фильма ужасов. Чего стоят жуткие вороны, обрамляющие с двух сторон горький рассказ Касьяновны об умершем сыне. Здесь же, в этом же стихотворении, - фирменное некрасовское «ууууу» - уууууумер, Касьяновна, ууууумер, голууууубушка… Эти воющие «у» некрасовского стиха - «дууууумаюдууууумууусвоюуууууу» - камертон его поэзии, утробный вой бесконечного отчаяния, безысходной тоски. И конечно, это не печаль о горе народном, никто в конце концов не заставлял сына Касьяновны идти на сорок первого медведя, - не социальная тут проблематика, хотя, конечно, теперь бедной одинокой старухе никто не поправит покосившуюся избууууушкууууу и не набьет зайчиков на новую шуууубушкууууу. Но это не к социальному устройству претензии, конечно, а вопль в небеса, экзистенциальный ужас, обращенный к мирозданию: люди одиноки, голы, босы, голодны и смертны; рассчитывать не на кого, ждать нечего, кругом горе и страдание, а впереди только смерть.
Некрасов первый, наверное, кто так последовательно творит в этом ключе, первый поэт отчаяния, тоски и вселенской муки. За ним на свет появилась целая плеяда художников, поэтов и кинематографистов, творящих в эстетике отчаяния и без церемоний втыкающих в своих читателей, слушателей и зрителей пропитанные ядом ржавые гвозди; последнее произведение в этом роде, кажется, германовское «Трудно быть богом» (фильм снят по одноименной повести братьев Стругацких. - Прим. ред.). Некрасов, правда, был никакой не дон Румата, не чистый и верящий в идеалы добра и справедливости землянин в Арканаре, а плоть от плоти его и кровь от крови этого злого и грязного мира, барон Пампа и поэт Цурэн в одном лице.

Не то чтобы он был совершенно лишен радостей и видел кругом только грязь, ужас и несправедливость. Ведь замечал же - и «тончайшие сети паутины, что как иней к земле прилегли», и всей грудью вдыхал «здоровый, ядреный воздух». Это могучий, очень здоровый и веселый поэт, умеющий живописать не только язвы и раны, но и вишневые сады, «как молоком облитые», и зимний лес, трещащий под тяжкими шагами мороза, и русских баб с их спокойным достоинством. Эти русские бабы у Некрасова - вообще поразительное литературное открытие: впервые в литературе появляются обиженные, униженные, битые, поротые, закабаленные - и совершенно свободные люди. Полные собственного достоинства - и ничего не боящиеся, потому что уже нечего отнять. И не растерявшие любви, внутреннего благородства, сострадания к другим людям, благодарности даже. Матрена Тимофеевна в «Кому на Руси жить хорошо» сохраняет человеческий облик в самых нечеловеческих условиях. И в этом, наверное, тоже новаторство Некрасова, за век до Виктора Франкла задавшегося вопросом, за счет чего человек выживает в аду. И кажется, даже к выводам пришел похожим.
Практический талант
К тому времени, как Некрасов всерьез заявил о себе как о поэте, у него за плечами уже был некоторый успешный издательский и редакторский опыт. Собранный им сборник «Физиология Петербурга», положивший начало русской «натуральной школе», привлек большое читательское внимание и стал вполне коммерчески успешным проектом. «Петербургский сборник», вторая его редакторская работа, тоже был раскуплен и принес большую прибыль. Стало понятно, что Некрасов умеет вести дела. Идея создать новый журнал для нового направления носилась в воздухе; до Некрасова, однако, среди литераторов мало находилось людей с управленческой жилкой. Белинский очень ценил практичность Некрасова и всецело ему здесь доверял (во всяком случае, на этапе создания журнала); надо сказать, что именно Некрасов обеспечил Белинскому возможность в последние годы жить достойно, зарабатывать деньги и лечиться за границей.

Открыть новый журнал вряд ли было возможно - царь считал, что и так их слишком много. Поэтому перекупили старый - пушкинский «Современник», уже еле живой в руках Плетнева. Некрасов оказался редактором и издателем от Бога: нюх на таланты, деловая хватка, умение уговаривать цензоров (кормить их роскошными обедами, возить на охоту и пр.), нянчиться с авторами, писать самому все, чего недостает, и приводить в должный вид то, что необходимо исправить, - все это позволило ему создать лучший в России журнал. Вскоре среди авторов «Современника» оказались лучшие писатели: Тургенев, начинающий Достоевский, Герцен, Огарев, Гончаров, потом Островский и молодой Толстой…
На втором году издания, однако, над «Современником» собрались тучи: после французской революции 1848 года в России ужесточилась цензура. По «делу петрашевцев» были арестованы несколько близких к «Современнику» литераторов, в том числе Достоевский, в вину которому вменялось чтение письма Белинского к Гоголю. Самого Белинского, уже тяжело больного, вызывали повесткой к Дубельту в Третье отделение; Белинский, однако, уже не вставал, и его оставили в покое. Он вскоре умер. Достоевского отправили на каторгу. Цензура изымала тексты из каждого номера журнала. Чтобы спасти журнал и вовремя разослать его подписчикам, Некрасов сам писал роман, чтобы заделать цензурные пробоины, - «Три страны света», длинный-предлинный. Первый в русской литературе роман, созданный двумя соавторами: Некрасовым и Авдотьей Панаевой.
Мы с тобой бестолковые люди

Панаеву и Некрасова связывали не только соавторские отношения. Авдотья Яковлевна, дочь актера Брянского, женщина умная и талантливая, была не особенно счастлива замужем за вторым издателем «Современника», Иваном Панаевым. Писателем он был неплохим, но мужем скверным: дружеские попойки и девицы легкого поведения привлекали его куда больше, чем законная жена. Некрасов долго осаждал красавицу Панаеву и даже едва не покончил с собой из-за ее немилости. Ей было трудно решиться. Ее очень мучило положение гражданской жены; вопрос о праве женщины быть верной своему сердцу, а не брачным клятвам, еще только брезжил на горизонте общественного сознания - даже до «Грозы» оставалось довольно много лет, не говоря уж об «Анне Карениной». В конце концов всех устроил странный семейный союз: Панаевы и Некрасов жили в одном доме, Авдотья Яковлевна считалась женой Панаева, хотя, по сути, была женой Некрасова; Панаев закрывал на это глаза; Некрасов ревновал Авдотью Яковлевну к мужу; эта путаная жизнь вызывала множество кривотолков и больно ранила Панаеву. Может быть, Некрасова и Панаеву спасло то, что и сами они были литераторы, и круг их составляли литераторы, люди если и не богемные, то не такие консервативные, как калиновцы в «Грозе». Лучшие писатели собирались в салоне у гостеприимной и привлекательной Панаевой - и, как обмолвился один некрасовед, если бы в это время в доме обвалился потолок, мы остались бы без великой русской литературы.
Семейная жизнь Некрасова и Панаевой была бурной - с взаимными ссорами и упреками, дикими сценами, вспышками ревности, примирениями и нежностью. Кажется, ни он, ни она не были склонны к тихому семейному счастью.
Любовная лирика Некрасова - это тоже совершенно новое слово в русской литературе. «Как буйство нервное стихает и переходит в аппетит» - ничего себе взгляд любящего на любимую! Это неслыханная доселе лирика мрачных бытовых драм, житейских скандалов, размолвок - не праздники, но будни любви. Возлюбленная в этих стихах - не гений чистой красоты, а стоящая рядом, земная, нервная, заплаканная, истеричная женщина, которую все равно нельзя не любить.
Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.
Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...
В 1849 году у них родился ребенок, но прожил всего несколько дней. Авдотья Яковлевна тяжело переживала смерть ребенка. Уехала за границу; в саду Тюильри она так засмотрелась на играющую девочку, что нянька забеспокоилась и стала расспрашивать, отчего она так смотрит… Со смертью ребенка что-то надломилось в их отношениях. Они сходились и расходились, и опять сходились - пока наконец Авдотья Яковлевна не ушла совсем в середине 60-х. Вышла замуж и родила дочку. Муж, правда, тоже вскоре умер. Она зарабатывала литературным трудом, жила бедно и, кажется, не очень счастливо.
Барин и плебей

Некрасова теперь считали лучшим русским поэтом. Он разбогател. Стал членом Английского клуба. Играл в карты - и часто выигрывал огромные деньги (часть выигрышей, кстати, вкладывал в журнал). Картежником он был хладнокровным и расчетливым - не на удачу рассчитывал, а на мастерство. Современников изумляло, что певец горя народного - барин, любитель вкусно поесть, картежник, охотник…
«Современник» тем временем тоже менялся: тон в нем все больше задавали молодые критики Добролюбов и Чернышевский. Ведущим вопросом стал вопрос «общего дела» - социальных реформ. В редакции наметился раскол между разночинцами-критиками и аристократами-прозаиками, скептически относившимися к «семинаристам». Резкость Чернышевского и Добролюбова, их требование, чтобы литература служила общественной пользе, вызывали негодование у основных авторов журнала. Конфликт тянулся несколько лет и кончился полным разрывом с Тургеневым, Толстым и Григоровичем. Не только редакцию, но и Некрасова раздирали пополам социальные противоречия: в нем никак не уживались важный барин и умирающий от голода Фигаро, проходимец и делец, сделавший сам себя. И в нем самом, как и в редакции, не прекращался спор о том, как писать и что писать и для чего это делать: для пушкинской гармонии или гоголевской общественной пользы. Его стихи о предназначении поэта - это спор с самим собой: и «Блажен незлобивый поэт», и «Поэт и гражданин». Он сам себя убеждает: да, божественная гармония - прекрасно, но надо же что-то делать!
Некрасов не мог не поддержать Добролюбова и Чернышевского просто потому, что они давали перспективу. Окружающая действительность так мучила Некрасова, такую тоску в него вселяла, такое желание перевернуть эту жизнь, изменить ее, что ни за что бы он не отказался от возможности прямо говорить в своем журнале, что все это надо менять. Его сжирало всепоглощающее чувство вины: не так сказал, не так себя повел, не то сделал… - и заканчивалось это бешеным, чудовищным самоедством: не так живу, кругом виноват… Может быть, дело в извечной вине образованного и состоятельного человека перед бедным и малограмотным народом - ею с легкой руки Некрасова заболели несколько следующих поколений русской интеллигенции. Может быть - в той болезненной, патологической вине, которая часто сопровождает депрессии. Некрасов искал выхода - а выход предлагали Добролюбов и Чернышевский. Они знали, что делать.
Гроза, беда!

Время реформы - время подъема. Некрасов едет в Грешнево, разговаривает с мужиками, приглядывается, задумывается. Из этих наблюдений скоро вырастет «Кому на Руси жить хорошо» - колоссальная поэма о великом переломе: порвалась цепь великая, порвалась - расскочилася…
Он пишет сейчас о мужиках и для мужиков: его «Коробейники» - это прямо для народа, он и издавал их отдельным изданием, чтобы распространять через офеней - чтобы мужики читали. Он прямо обращается в стихах к мужикам, и этого, опять-таки, до него пока никто не делал. Он первый пришел к этим новым читателям и заговорил с ними на их языке. Он задумал целую программу издания книжек для народа, и первые книжки уже успели найти своих читателей - пока всю серию его «Красных книжек» не прихлопнула цензура.
После нескольких лет «оттепели» с их мягкой цензурой над «Современником» снова сгустились тучи. Чернышевский в 1862 году был арестован за брошюру «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Добролюбов умер. Издание журнала было приостановлено цензурой на восемь месяцев - из-за «вредного направления». Возобновилось оно в 1863 году - и среди сотрудников появились Салтыков-Щедрин и Глеб Успенский, а в трех номерах подряд вышел роман «Что делать?». Дела Некрасова шли так хорошо, что он купил в 1863 году у княгини Голицыной имение Карабиху - с оранжереями и померанцевым садом.
А в 1866 году после покушения на Александра II «Современник» снова собрались закрыть. Некрасов решился на отчаянный шаг: в день, когда он получил известие, что журнал обречен, он в Английском клубе преподнес верноподданническую оду Муравьеву-вешателю, усмирителю Польши, который после покушения был поставлен во главе Следственной комиссии. Муравьев брезгливо выслушал оду и не поверил ни единому слову. Присутствующие были шокированы некрасовским поступком. «Современник» все равно закрыли, а на Некрасова обрушились волны либерального гнева. Иначе как подлецом его не называли, слали ему гневные письма и гадкие стихи, возвращали книги, рвали его портреты - словом, всячески демонстрировали свое гражданское негодование. Некрасов еле вынес эту обструкцию. «Гроза, беда! // Облава - в полном смысле слова!.. // Свалились в кучу - и готово // Холопской дури торжество, // Мычанье, хрюканье, блеянье // И жеребячье гоготанье - // А-ту его! А-ту его!» Герцен издевался из Лондона: «Браво, Некрасов, браво!» Фет обозвал «продажным рабом». Некрасов мучился виной, каялся - и обвинял своих обвинителей: «Зачем меня на части рвете, // Клеймите именем раба? // Я от костей твоих и плоти, // Остервенелая толпа».
Ему казалось, что он всех предал - и «Современник», и Белинского, и Чернышевского, и Добролюбова, и даже мать свою. Он каялся и объяснялся с обществом, и эта потребность каяться и объясняться, уже болезненная, навязчивая, не оставляла его никогда. Даже на смертном одре, вопя от боли, он снова и снова возвращался мыслями к этой чудовищной ошибке и просил прощения.
Как много сделал он, поймут
Последние десять лет его жизни были очень плодотворны: он работал над «Кому на Руси жить хорошо», издал великолепную сатиру «Современники», возродил дух «Современника» в «Отечественных записках» - и, в общем, с нуля сделал прекрасный журнал. Но сам он был уже надломлен и от надлома того никогда не оправился.
В 1870 году он полюбил необразованную простую девушку Феклу Викторову; современники неясно намекали на ее запятнанную репутацию, но доподлинно ничего не известно. Девушка была милая, кроткая и смешливая, умела справляться с бешеными некрасовскими вспышками, развеселить, привести в чувство. Некрасов назвал ее Зиночкой, да так и вошла она в историю - Зинаида Николаевна Некрасова. Она спокойно и самоотверженно ухаживала за поэтом, когда у того обнаружился рак прямой кишки - когда он вопил от боли, прогонял от себя не умеющих перевязать его медиков, не спала ночами два года подряд. Он обвенчался с ней дома за восемь месяцев до смерти - больной, еле живой, вокруг аналоя его водили за руки.
Когда он умирал, страна вдруг очнулась и поняла, как сильно она его любит. Ему простили наконец оду Муравьеву. Его засыпали поздними признаниями в любви. «И только труп его увидя, как много сделал он, поймут», - напророчил он сам себе. Увидели.
На похороны пришли толпы. Тысячи и тысячи - никто не считал. Плакали у гроба. Когда Достоевский сказал, что Некрасова можно поставить рядом с Пушкиным - кричали «выше, выше Пушкина». И с этих пор полтора века подряд говорили про общественное значение некрасовской поэзии, про демократический пафос, про горе народное, про общее дело, про борьбу. Совсем забывая о свежести его поэзии, о первобытной силе, о невероятной красоте некрасовской мелодики, о яркой и лаконичной ее выразительности… Гражданин победил поэта.
В этом стихотворении воспевается поэт, а также его озлобленность, как свойство, присуще не только ему, но всем его современникам.
С первых строк автор заявляет что поэт, будь он даже злобным, блаженен, то есть почти свят. Ему следует дарить венцы как символ чествований. Поэта Полонский сравнивает с нравственным калекой. Получается, что поэт пережил духовную травму, а, возможно, и не одну… Его окружение (всех людей, вообще) Полонский называет детьми века, тоже озлобленного. Это такое злое время, по мнению автора.
Во второй строфе раскрывается, чем же занимается герой в своей поэтической деятельности. Конечно, поэт ищет свет (выход) во тьме. Видимо, это тьма невежества, злости людской… Он не верит людям, не верит в богов. Единственное, что у него осталось – ум, рациональность. Да, такой век – потеря религиозности, а также общности, объяснение всего логическими выкладками.
Тема эта развивается в третьей строфе. Поэт тревожит людей «солидных», то есть их сон. Люди будто спят, а не живут, но иногда стихотворная строчка может так задеть, что они проснутся для настоящей жизни. Вокруг героя одни противоречия, и он страдает. Здесь использована метафора «ярмо сомнений», которая подчеркивает их тяжесть. Эпитет «пророческий» в отношении стихов очень важен для понимания, ведь поэты и писатели часто выступают «предсказателями». Люди удивляются, спустя годы, как поэт предугадал события. Но мыслящий человек просто видит совсем не радужные перспективы, предупреждает других, но те не всегда готовы что-то изменить.
В четвертой строфе наметился перелом. Теперь речь идёт о том, что поэт не делает. Не переносит он масок, то есть обманных впечатлений, которое хотят произвести люди. Он не просит поменять свое счастье на что-то материальное. Но главное, что он любит всех всем сердцем.
Эта мысль находит продолжение, ведь в любви этой – будущие идеи, а в них – спасение. Важны тут и страсти, и дух противоречия поэта-творца. Фразы здесь становятся рублеными определениями.
Поэт невольно кричит, но этим он выражает затаённую людскую боль. Этой способностью он и велик.
Анализ стихотворения Полонский Блажен озлобленный поэт по плану
Возможно вам будет интересно
- Анализ стихотворения Первый снег Брюсова 7 класс
Произведение относится к пейзажной лирике, однако в отличие от традиционных стихов данного жанра в качестве природного предмета восхищения для поэта становятся не окружающая деревенская природа, а картина заснеженной Москвы.
- Анализ стихотворения Дед Есенина
Тяжелый труд, труд на земле всегда был почитаем Есениным, как минимум, поэт видел в такой деятельности нечто подлинное и настоящее. Стихотворение Дед описывает будни простого рабочего человека, к таким простые сельские парни всегда обращаются дед
Эстетически чуткие критики улавливали необходимость преодоления отрицательных крайностей каждого из сложившихся поэтических направлений. Такими критиками, в частности, оказались М. Л. Михайлов и Ли. Григорьев. Недаром Л. Блок с таким упорством сближал их как поздних потомков Пушкина, наследников пушкинской культуры: «Вот еще люди, столь сходные во многом, но принадлежавшие к враждебным лагерям; по странной случайности так и не столкнула их ни разу»
В то же время такое преодоление вряд ли было возможным. В этом смысле интересна судьба Я. Полонского (1819- 1898). Поэт занял как бы среднее положение между Некрасовым и Фетом. Многое объединяет его с Фетом, прежде всего преданность искусству. В то же время искусство, природа и любовь не абсолютизировались Полонским. Более того, Полонский сочувствовал Некрасову и считал гражданскую, социальную, демократическую направленность его поэзии соответствовавшей духу времени и необходимой. В стихах «Блажей озлобленный поэт...», полемизируя с известным некрасовским стихотворением «Блажен незлобивый поэт...», Полонский засвидетельствовал всю силу «озлобленной» поэзии, сочувствие ей и даже зависть к ней. Сам Полонский собственно не был ни «незлобивым», ни «озлобленным» поэтом, довольно эклектично соединяя мотивы той или иной поэзии и никогда не достигая трагической силы ни в топ, ни в другой поэтической сфере, как то было у Некрасова, с одной стороны, или у Фета, с другой. В этом смысле, будучи поэтом сравнительно меньшим не, только по значимости своей ПОЭЗИИ, по и по вторичное ее, Полонский интересен как выражение массового, как бы читательского восприятия поэзии «титанов», о которых писал в стихотворении «Блажен озлобленный поэт...» (1872).
- Невольный крик его - наш крик, Его пороки - наши, наши! Он с нами пьет из общей чаши, Как мы отравлен - и велик. «Как мы...», но - «велик».
И стихотворные формы Полонского во многом шли от массовой демократической «фольклорной» формы-песни и городского романса.
Определяя разные поэтические тенденции эпохи-«чистое искусство» и демократическую поэзию, - нужно иметь в виду, что вообще демократизация - это процесс, который захватил всю русскую поэзию того времени в наиболее значительных ее явлениях. Наконец, такие ПОНЯТИЯ, как демократизм и народность, в поэзии 50 - 60-х годов тоже предстают в соотношениях достаточно сложных. Так, даже применительно к Некрасову, при бесспорном и постоянном демократизме его поэзии, можно говорить о сложном движении - к овладению народностью в ее общенациональном эпическом значении. В конце концов это нашло выражение в его поэмах начала 60-х годов.
Демократизм часто предстает в поэзии как разночинство, мещанство. Собственно же поэтическая народность в ее связи с национальными, народными, особенно крестьянскими истоками подчас оказывается достаточно элитарной. Вряд ли можно говорить о народности таких характерных представителей демократического искусства, как Д. Минаев, например, или И. Гольц-Миллер. В то же время постановка проблемы народности творчества графа А. Толстого представляется оправданной даже его демократическим современникам. С этой точки зрения поэт-искровец Н. Ку-рочкин противопоставлял А. К. Толстого Д. Минаеву. Он писал в связи с Минаевым: «Все новое, живое и свежее родится не для нас; наследником нашим будет другое, коллективное лицо, которое еще только недавно призвано к жизни и которого не знает ни г. Минаев, ни большинство из нас, живущих искусственною, теоретическою и, так сказать, теплично-литературной жизнью... лицо это - народ, к которому лучшие из нас, конечно, всегда относились с симпатиями, но симпатии наши почти постоянно оказывались бесплодными».
К началу 00-х годов поэзия в целом снопа вступает в полосу определенного спада, и чем дальше, тем больше. Вновь ослабляется интерес к поэзии как по месту, которое предоставляется ей на страницах журналов, так и по характеру критических оценок. Многие поэты умолкают на долгие годы. Особенно характерно, может быть, почти полное молчание такого «чистого» лирика, как Фет. И было бы поверхностным видеть причину "этого лишь в резкой критике Фета на страницах демократических изданий, особенно «Русского слова» и «Искры». Еще более, может быть, ожесточенные нападки на Некрасова на страницах реакционных изданий ничуть не ослабили его поэтического напора. Кризис в поэзии захватил отнюдь не только «чистое искусство». Во второй половине 60-х годов его столь же ощутимо переживает и демократическая поэзия. В то же время тяготевшие к эпосу поэты даже из лагеря «чистого искусства» интенсивно творят: так, возвращается к созданию баллад на народной основе А. К. Толстой.
Но настоящего расцвета достигнет лишь эпическая поэзия Некрасова. В 60-е годы пробудившаяся, тронувшаяся с места крестьянская страна, не растерявшая еще, однако, нравственных и эстетических устоев, сложившихся в условиях патриархальной жизни, и определила возможность удивительно органичного слияния социально-аналитического элемента с устной народной поэзией, которое мы находим в поэзии Некрасова этой поры.
Если домашнее задание на тему: » Блажен озлобленный поэт оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.